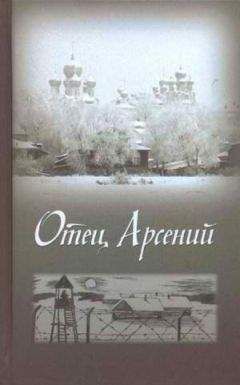Семён Данилюк - Обитель милосердия [сборник]
— Так что, дружба врозь? — задал-таки он мучивший вопрос.
— Что делать? Такова се ля ви, — в тон ему подыграла Татьяничева. — Кстати, когда ты уходишь в докторантуру?
— Однако! — Карась искренне подивился. — И трех дней не прошло, как главный намекнул… Откуда такая информированность? Слушай, — со смехом предположил он, — а может, ты с ним теперь?.. В конце концов, должна же ты с кем-то спать, раз меня бросаешь?
— Хорошенький ты мальчик, Илюшенька, — она соскочила со стола, — но доложу по секрету — хам!
Карасю показалось, что неожиданно он угадал. Это было открытие чрезвычайной важности, многое объясняющее… Самка! Расчетливая самка!
— У вас ко мне дело?
— Мальчишка, — Татьяничева с улыбкой потянулась к его волосам, но он холодно отстранил ее руку.
— Да ничего у меня с главным нет! — будто только теперь поняв его состояние, произнесла она. — Глупости какие.
И тут же, словно сказанное было совершенно очевидно, продолжила:
— На следующей неделе в область поступит японская аппаратура. Та самая. Через два-три дня сюда приедет Ходикян. Будет решаться вопрос, в какое отделение ее передать, — она выждала его реакцию и, не дождавшись, поджала губы. — Ты что, так и собираешься в мальчиках просидеть?
— По-твоему, заведующий отделением, к которому на прием из Москвы ездят, — мальчик? — не удержался Карась. — Беспардонная ты все-таки бабенка.
— А по-твоему? Илюшка, тебе сорок, и ты созрел для прыжка. Я что, должна тебе объяснять, что такое приличная аппаратура? Это за год докторская, это возможность делать любые операции, это диагностика. Это…
— Это вылеченные больные.
— И это тоже, — по лицу ее скользнула тень. — И, наконец, это имя! А в перспективе… — Она кивнула на окно, за которым шумело у стен клиники веселое шоссе на Москву. — Такие случаи бывают два-три раза в жизни и их нельзя пропускать. Проморгал — считай, списан в неудачники. Учти, Самарин тоже претендует. Так что…
— Я догадываюсь, что такое хорошая аппаратура. Не пойму только, ты-то что так за меня хлопочешь?
— Ты все-таки хоть и талант, но тупица. Во-первых, я займу твое место.
— Ты?! — вырвалось у него совершенно непроизвольно.
— А почему бы и нет?! Я неплохой специалист. А как администратор уж не слабее тебя. Это-то не отнимешь.
— Есть, видишь ли, еще один пустячок, — осторожно, словно не решаясь продолжить, произнес он.
— Что? Любить больных?! — тоном человека, которому надоело вкушать спускаемые сверху добродетели, договорила за него Татьяничева. — Так им ни твоя любовь, ни моя не нужна. Они сюда приходят лечиться, и им нужен результат. Как и мне. Так что наши интересы здесь совпадают. А единство интересов — самые крепкие узы.
И, во-вторых, — она добралась-таки до его шевелюры, отчего у Карася томительно заныло внутри, и, мягко улыбаясь, приблизила его лицо. — Ты спрашивал, какой интерес мне? Объясняю: хочу, чтоб об Илье Зиновьевиче Карасе слава как об Илизарове гремела. А о том, что к этому приложила руку и некая безвестная Татьяничева, будем знать только мы с тобой. — И, отвечая на вопрошающий его взгляд, добавила: — Я, видишь ли, тщеславна и предпочитаю быть любовницей московского профессора, а не подружкой провинциальной знаменитости.
Прежде чем растерявшийся Карась ответил, Татьяничева вышла из кабинета.
Ирина Борисовна кроила шагами свою ставшую неуютной квартиру, переходя из комнаты в комнату, и с трудом удерживаясь, чтобы в третий раз за вечер не позвонить в отделение. Она совсем было подобралась к телефонному столику, когда собранный мужем дверной звонок пропел мелодию из арии Дон Кихота. Впрочем, басил он и «врал» мотив так же нещадно, как и его создатель.
— Я не разбудила, милая? — старушка-соседка, чей возраст даже сама она определяла «на глазок», с допуском в два-три года, мелко потряхивала головой на пороге. — Я только спросить о Михал Ляксандрыче.
— Сделали операцию, пока все хорошо.
— Ну, дай-то бог, — старушка щурилась слезящимися глазами. — Душевный человек. А я вот ему тут… В церкви была, так это просвирки, — она поспешно принялась разматывать протертый носовой платок, внутри которого потряхивалось несколько сухариков. — Ты б ему дала. Врачи врачами, а Богово — это само собой.
— Мы ж неверующие, Александра Ивановна, — Ирина Борисовна сдержанно, выказывая благодарность, улыбнулась. — Так что вряд ли ваш Бог атеистам помогать станет. Да и муж, если узнает, меня саму выгонит.
— А ты не говори, размочи в воде и дай, — старушка пересыпала сухарики в ее ладонь и сама же заботливо сжала пальцы. — Верующие вы там иль еще какие, а Господь все одно позаботится. Щас и не разберешь, где кто. На словах-то все: «Бога нет», а как прижмет, так и «Господи, спаси».
— Ну, к Михал Александровичу это не относится. Он на чем всю жизнь стоял, и сейчас стоит, — она вдруг устыдилась, поймав себя на заурядном хвастовстве.
— Душевный человек, — согласилась соседка. — Строгий, конечно, не без того, но душевный. Все по правде.
Двадцать лет назад Шохин, злоупотребив своим депутатским положением, «выбил» комнату для ее тяжелобольного, теперь уже давно умершего сына.
Мужа она увидела, едва войдя в отделение: обмякнув, сидел он в холле, в кресле, развернутом к входной двери. Голова его безвольно свешивалась.
— Миша! Мишенька! — он медленно, через силу поднял голову, тихо улыбнулся:
— Пришла? А я вот встречать вышел. Гляжу, все нет и нет.
— Тебе плохо? Пойдем немедленно ляжем. Ну, обопрись! — с трудом поддерживая навалившегося мужа, а другой рукой оттягивая бьющую по ногам сумку с кастрюльками, она довела его до кровати.
— И как ты, хороший мой, в таком состоянии до кресла дошел? Давай ляжем. Вот так, теперь вторую ножку. Ничего, я рядом, все будет хорошо, все будет…
— Стонал он ночью-то, — сообщил медленно выправляющийся Ватузин.
— А кардиолога разве?..
— Звонил я. Да рази ж их дозовешься? — Ватузин безнадежно махнул кистью, разминая одновременно руку.
Круто повернувшись, она шагнула к двери и здесь столкнулась с улыбающимся Карасем. Только что главный подтвердил насчет докторантуры.
— Едва рассвет, и я у ваших ног!.. — он осекся.
— Я же просила. Русским же языком! Я прошу, требую наконец! Ему нужен кардиолог!
— В чем дело? — Илья Зиновьевич невольно отодвинулся, толкнув при этом входящую следом Татьяничеву — Вы же обещали. Ему плохо. Понимаете вы — плохо!
Через ее голову Карась обеспокоенно разглядывал больного.
За эти сутки, да какие там сутки — меньше! — Шохин изменился до неузнаваемости: покрытое холодной испариной желтое лицо, слипшиеся, разбросанные вокруг головы пучки волос, запавший без вставной челюсти рот и втянутые щеки, повторяющие очертания десен. На постели лежал старик, тяжело больной старик.
— Ну что ж, сейчас будет кардиолог. Не надо только паниковать.
— Это что-то ненормальное! Я хорошо знаю своего мужа.
— Недавно вы утверждали то же самое, — напомнил Карась. Шохина отвернулась: на другой день после операции, узнав, что температура у больного 35 и один, она тут же подняла на ноги отделение.
— Вот так, — удовлетворенно закончил Карась. — И я прошу: впредь не злоупотреблять теми привилегиями, которые вам здесь предоставлены. Вы начинаете дестабилизировать работу отделения.
В самом деле, привлеченные шумом, в дверях толпились несколько больных из других палат.
— …Почему не вызвали вчера?
— Вы бы дверь, юноша, потрудились закрыть.
Молодой кардиолог, с нарочито большей силой, чем было необходимо, захлопнув дверь, с тем же возбуждением посмотрел на заведующего урологией:
— Я спрашиваю, почему?!
— Седуксена дать?
— Простите?
— Ну, в чем дело? Только по существу. — С Карасем кавалерийские наскоки не проходили.
— У больного начался отек легкого.
— …?
— Это от сердечной недостаточности. Кардиолога надо было вызывать по крайней мере вчера, а по науке — так «вести» после операции. Он же инфарктник, — последнее кардиолог, заметив сидящую в углу в кресле Татьяничеву, произнес мягче, как бы извиняясь перед женщиной за свое взвинченное состояние.
— Черт! Этого еще недоставало, — Карась нагнулся над селектором. — Воронцову найти и срочно ко мне… Как это могло случиться? Такой идеально чистый случай. И главное — каждый день прослушивал.
— Нужен был кардиолог, — упрямо, хотя и без прежней запальчивости повторил врач. — Тем более, вы же были предупреждены, — он сбился: ироническая улыбка Татьяничевой сделала обычное дело.
— Так каковы перспективы? — Татьяничева размашисто задала вопрос, к которому исподволь, боясь ответа, подводил разговор Карась. — Насколько опасно?
— В его состоянии все опасно. Но вообще-то… К вечеру было бы поздно. Лечение я назначил, буду забегать через час. Да, ему предписано больше пить… ну, чтоб гнать воспаление. Так для сердца это вредно. Надо искать компромисс, — он поднялся. — Может, стоит подключить невропатолога. Как там повернется? Случай-то неординарный.